максим
/
Но имя — это не только последний возглас, оно еще и подлинный глас языка. Так, в имени является ...

Но имя — это не только последний возглас, оно еще и подлинный глас языка. Так, в имени является сущностный закон языка, по которому высказывать себя и сказывать обо всем остальном — одно и то же. Язык — и духовная сущность в нем — лишь тогда высказывает себя в чистом виде, когда он говорит в имени, то есть в универсальном именовании. Так, в имени достигают высшего выражения интенсивная тотальность языка как абсолютно сообщаемой духовной сущности и экстенсивная тотальность его как универсально сообщающей (именующей) сущности. Язык в согласии со своей сообщающей сущностью, с универсальностью своей, несовершенен тогда, когда духовная сущность, говорящая из него, не языковая, то есть не сообщаемая во всей своей структуре. Лишь у человека есть совершенный в своей универсальности и интенсивности язык.
В свете этого вывода можно теперь, не опасаясь путаницы, поставить вопрос, чрезвычайно важный с метафизической точки зрения, который, впрочем, здесь может быть поставлен со всей ясностью пока лишь как терминологический. Именно следует ли духовную сущность не только человека (что необходимо), но и вещей и тем самым духовную сущность вообще обозначать в контексте теории языка как языковую? Если духовная сущность тождественна языковой, то вещь согласно своей духовной сущности есть медиум сообщения, и то, что в ней сообщает себя, есть, следуя медиальному отношению, именно сам этот медиум (язык). Тогда язык — это духовная сущность вещей, то есть духовная сущность с самого начала полагается сообщаемой или, скорее, полагается как раз в сообщаемость, и тезис о том, что языковая сущность вещей тождественна их духовной сущности, поскольку последняя сообщаема, в этом их «поскольку» становится тавтологией. Содержания у языка нет; в качестве сообщения язык сообщает духовную сущность, то есть сообщаемость как таковую. Различия языков — это различия медиумов, которые разнятся, как бы упорядочиваясь по плотности; в двояком отношении — по плотности сообщающего (именующего) и сообщаемого (имени) в сообщении. Обе эти сферы, в чистом виде разделенные, объединенные лишь в языке имен у человека, разумеется, постоянно соотносятся друг с другом.
В свете этого вывода можно теперь, не опасаясь путаницы, поставить вопрос, чрезвычайно важный с метафизической точки зрения, который, впрочем, здесь может быть поставлен со всей ясностью пока лишь как терминологический. Именно следует ли духовную сущность не только человека (что необходимо), но и вещей и тем самым духовную сущность вообще обозначать в контексте теории языка как языковую? Если духовная сущность тождественна языковой, то вещь согласно своей духовной сущности есть медиум сообщения, и то, что в ней сообщает себя, есть, следуя медиальному отношению, именно сам этот медиум (язык). Тогда язык — это духовная сущность вещей, то есть духовная сущность с самого начала полагается сообщаемой или, скорее, полагается как раз в сообщаемость, и тезис о том, что языковая сущность вещей тождественна их духовной сущности, поскольку последняя сообщаема, в этом их «поскольку» становится тавтологией. Содержания у языка нет; в качестве сообщения язык сообщает духовную сущность, то есть сообщаемость как таковую. Различия языков — это различия медиумов, которые разнятся, как бы упорядочиваясь по плотности; в двояком отношении — по плотности сообщающего (именующего) и сообщаемого (имени) в сообщении. Обе эти сферы, в чистом виде разделенные, объединенные лишь в языке имен у человека, разумеется, постоянно соотносятся друг с другом.
 Светлана
Светлана
Это утверждение Вальтера Беньямина о языке и имени так близко к нашей отечественной философской мысли о соотнесенности языка и мышления, слова и вещи, имени и сущности, которая всегда занимала важное место. Если я что-то помню из лекций по лингвистике в институте. На протяжении тысячелетий тема взаимосвязи реального мира, человеческого знания о нем и его вербального выражения, наличествует уже в философской культуре древнего мира. Помнится что-то из диалогов Платона. Весь XIX-XX век
 Светлана
Светлана
стал временем углубления представлений о языке, признания его основополагающей роли во всей сфере человеческого бытия. От хайдегеровский взглядов: язык не орудие мысли, не одна из способностей человека, что уже не человек говорит, а язык говорит человеку и человеком, до утверждений, что язык в силу своего несовершенства толкает человеческое сознание в разнообразные «ловушки».
 Светлана
Светлана
Русская философская мысль об имени и слова развивалась своим национальным путем, хотя в основе опиралась на античную, византийскую, древнерусскую и, конечно, западную. Но метафизика слова и имени в русской религиозно-философской мысли - как уникальное явление в истории мировой философии.


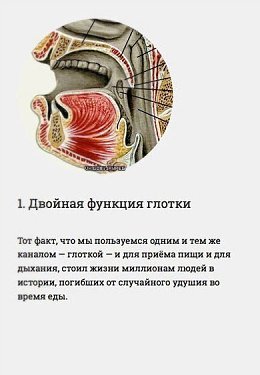

Учение о подобии.