
:) КОСМИЧЕСКИЙ АРТИСТ
Сменил фамилию. Пережил раскулачивание, голод, армию, Курскую дугу, плен, побег из плена…. Десять лет ходил под лагерной статьей. Никакого специального актерского образования. Завербовался в театр на Севере. Рассчитал, что все равно дальше Норильска не сошлют. В Москву на прослушивания приехал в лыжном костюме — ничего больше не было. Жить негде — спал на подоконнике в чужом парадном. Лето, жара, зимний лыжный костюм…. Ни в один столичный театр не взяли. Правда, дали сняться в кино.
Когда Товстоногов увидел его на экране, то закричал на весь просмотровый зал: «Глаза!». Это мне рассказывала его завлит и соратница Дина Морисовна Шварц. Она сидела рядом с Георгием Александровичем и первой отреагировала на крик своего патрона. У Смоктуновского были глаза князя Мышкина. Собственно, с этих глаз все началось и завертелось. Когда они вспыхивали и сияли своим блаженным голубым светом, это стало первым полулегальным явлением святости на безнадежно атеистической советской сцене. Никто этого не смог потом ни повторить, ни изобразить.
Его Мышкин появлялся со своим узлом, в нелепой шляпе и плаще-пыльнике, как какой-нибудь Блаженный Августин. Ему хотелось благоговейно внимать, целовать край его одежды, креститься, когда он появлялся, и осенять его крестным знамением, когда он уходил за кулисы. В обезбоженной, несчастной, загубленной стране вдруг ниоткуда объявился святой. Причем случилось это как раз в 1957 году, в тот самый год, когда Хрущев выступил со своим докладом о «культе личности». Каменный колосс закачался и рухнул. Среди этих каменных и гипсовых руин появился Князь Света, князь Мышкин Иннокентия Смоктуновского.
«Я космический артист», — признается он на полном серьезе много лет спустя во время дружеской пикировки с Олегом Ефремовым и Анатолием Смелянским. Они только ехидно усмехнулись. Но в словах ИМ не было ни хвастовства, ни позы. Он так себя ощущал — космический пришелец, театральный блаженный, почти что святой.
На самом деле об этом мало кто догадывался. Над ним даже принято было незло подшучивать: «Ну, Кеша в своем репертуаре». Да, он сам первым высмеял свою маску «святого» в «Берегись автомобиля». И тем не менее получасовые овации после «Идиота», когда люди физически не могли покинуть зал и отпустить его со сцены, — что это, как не жажда продлить пережитое чудо? Редчайший случай, когда зрители в партере БДТ становились похожи на паломников где-нибудь в Лурде или у Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Экстаз и единение.
Смоктуновский вернул забытое понятие чуда на советскую сцену. После он мог бы вообще больше ничего не играть. Просто остаться самым великим князем Мышкиным в истории театра. И все! Думаю, что его конфликт и последующий разрыв с Товстоноговым был связан как раз с тем, что чуда, которого теперь все от него ждали, он больше повторить не смог. Ну как можно играть «Иркутскую историю» после такого «Идиота»? Арбузова после Достоевского? Товстоногов это отказывался понимать. Порядок и дисциплина во вверенном ему театре — прежде всего!
Всю жизнь тяготился режиссерской деспотией. Не скрывал, что был страшно разочарован своей работой с Георгием Козинцевым в «Гамлете», отказался сниматься у Бондарчука в «Войне и мире», буквально сбежал со съемок «Анны Карениной», хотя говорят, что у него там были гениальные пробы в роли Каренина. Священный огонь сжигал его изнутри, требуя и не находя выхода.
При внешнем благополучии и всемирном успехе, при всех своих званиях и регалиях народного артиста СССР, в нем продолжал жить блаженный и безумноватый князь Мышкин. Человек без кожи, человек без свойств, притаившийся в своем достоевском подполье, о котором никому ничего не полагалось знать. И эта обезоруживающая улыбка тихопомешанного, и всплески красивейших рук, и, конечно, голос. Великий тенор эпохи. Oн не говорил будничные и скучные слова — он их пел. Особенно этот контраст был заметен, когда он оказывался рядом с мхатовцами в «Сталеварах», «Заседании парткома» или «Так победим!». Даже в «Чайке», где он играл Дорна, он был больше похож на князя Салину, непонятно зачем забредшего в этот левентальевский среднерусский пейзаж из своего сицилийского дворца в «Леопарде». После святых и блаженных в его жизни наступила эпоха аристократов крови. Они давались ему легко. Помню, как в фильме «Первая любовь» по Тургеневу, где Смоктуновский играл отца главного героя, он впервые заговорил по-французски. О, как это было красиво! И это барство манер, и презрительный прищур, и изумительный парижский выговор, выдававший завзятого франкофила. И гордая осанка опытного наездника… Откуда это все у кулацкого сына из далекой деревни под Красноярском? У неудачника, обивавшего пороги столичных театров почти десять лет? Действительно, космический артист!
Мы в этом еще раз убедились, когда он сыграл Иудушку Головлева в спектакле «Господа Головлевы». Он там вновь спустился в свой ад, но уже как бы с другого входа, указанного Салтыковым-Щедриным и срежиссированного Львом Додиным. Это было самое дно русской души, где ненависть к ближнему и страх за нажитое слились воедино в некий невыносимый концентрат, чистый яд. Один глоток, и тебя нет. Весь спектакль — серия смертей, бесконечная череда похорон. Род Головлевых обречен. Они все до одного должны умереть. Останется только один Иудушка. Он и есть Князь Тьмы. И его бесконечные речитативы — это плетение паучьих словесных сетей, где задыхается и гибнет все живое. Великая роль! Как жаль, что встреча с режиссурой Додина у Иннокентия Михайловича была только одна.
Он тяжело пережил раздел МХАТа. Когда их впервые собрал Ефремов у себя в номере в гостинице «Европейская» в Ленинграде, чтобы рассказать о своем плане разделения труппы, реакция у Иннокентия Михайловича была почти как у князя Мышкина на убийство Настасьи Филипповны («Ты хотел ее убить перед свадьбой ножом, вот этим ножичком?») Отчаяние и ужас. «Олег, пощади! Мы же все пенсионеры». Но смирился. И оставался с Ефремовым до конца.
Мне рассказывала о Смоктуновском Алла Сергеевна Демидова. Она даже книгу о нем написала. Много лет они были соседями в Доме кинематографистов на Икше. Блаженное время! ИМ любил природу. Любил копаться в земле. Привозил семена из разных заграниц. Сажал и ждал, что там потом у него вырастет. Соседи-кинематографисты раздражались и свирепели. Им хотелось обычной травы, привычного поля, и чтобы ничего не бросалось в глаза. А у него то подсолнух вымахает под два метра, то какие-то безумные алые маки расцветут, то заморская лилия, явно не из здешних мест, гордо вознесется над скромным клевером и крапивой. И в этих странных, причудливых растениях, предназначенных для другого сада и другой жизни, ощущалось незримое присутствие Иннокентия Михайловича, его легкая рука, его бесхитростная улыбка, его желание удивить, поразить, восхитить, быть не таким, как все.
Он очень любил свою жену Суламифь Михайловну, с которой он познакомился во время своей службы в Театре имени Ленинского комсомола в 1955 году. Его будущая жена, Суламифь Михайловна (Шломит Хаимовна) Кушнир. работала в пошивочном цехе художницей по костюмам.. Она была его спасительницей, «Соломкой», почти по Мандельштаму. Что был он заботливым и нежным отцом. А его дочь Маша до сих пор во всех своих интервью называет его не иначе, как «наш папочка». Думается, что Иннокентию Михайловичу это было бы очень приятно.
На фотографиях: Иннокентий Михайлович с женой и дочкой и могила Смоктуновского на Новодевичьем кладбище Москвы
*инет
Сменил фамилию. Пережил раскулачивание, голод, армию, Курскую дугу, плен, побег из плена…. Десять лет ходил под лагерной статьей. Никакого специального актерского образования. Завербовался в театр на Севере. Рассчитал, что все равно дальше Норильска не сошлют. В Москву на прослушивания приехал в лыжном костюме — ничего больше не было. Жить негде — спал на подоконнике в чужом парадном. Лето, жара, зимний лыжный костюм…. Ни в один столичный театр не взяли. Правда, дали сняться в кино.
Когда Товстоногов увидел его на экране, то закричал на весь просмотровый зал: «Глаза!». Это мне рассказывала его завлит и соратница Дина Морисовна Шварц. Она сидела рядом с Георгием Александровичем и первой отреагировала на крик своего патрона. У Смоктуновского были глаза князя Мышкина. Собственно, с этих глаз все началось и завертелось. Когда они вспыхивали и сияли своим блаженным голубым светом, это стало первым полулегальным явлением святости на безнадежно атеистической советской сцене. Никто этого не смог потом ни повторить, ни изобразить.
Его Мышкин появлялся со своим узлом, в нелепой шляпе и плаще-пыльнике, как какой-нибудь Блаженный Августин. Ему хотелось благоговейно внимать, целовать край его одежды, креститься, когда он появлялся, и осенять его крестным знамением, когда он уходил за кулисы. В обезбоженной, несчастной, загубленной стране вдруг ниоткуда объявился святой. Причем случилось это как раз в 1957 году, в тот самый год, когда Хрущев выступил со своим докладом о «культе личности». Каменный колосс закачался и рухнул. Среди этих каменных и гипсовых руин появился Князь Света, князь Мышкин Иннокентия Смоктуновского.
«Я космический артист», — признается он на полном серьезе много лет спустя во время дружеской пикировки с Олегом Ефремовым и Анатолием Смелянским. Они только ехидно усмехнулись. Но в словах ИМ не было ни хвастовства, ни позы. Он так себя ощущал — космический пришелец, театральный блаженный, почти что святой.
На самом деле об этом мало кто догадывался. Над ним даже принято было незло подшучивать: «Ну, Кеша в своем репертуаре». Да, он сам первым высмеял свою маску «святого» в «Берегись автомобиля». И тем не менее получасовые овации после «Идиота», когда люди физически не могли покинуть зал и отпустить его со сцены, — что это, как не жажда продлить пережитое чудо? Редчайший случай, когда зрители в партере БДТ становились похожи на паломников где-нибудь в Лурде или у Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Экстаз и единение.
Смоктуновский вернул забытое понятие чуда на советскую сцену. После он мог бы вообще больше ничего не играть. Просто остаться самым великим князем Мышкиным в истории театра. И все! Думаю, что его конфликт и последующий разрыв с Товстоноговым был связан как раз с тем, что чуда, которого теперь все от него ждали, он больше повторить не смог. Ну как можно играть «Иркутскую историю» после такого «Идиота»? Арбузова после Достоевского? Товстоногов это отказывался понимать. Порядок и дисциплина во вверенном ему театре — прежде всего!
Всю жизнь тяготился режиссерской деспотией. Не скрывал, что был страшно разочарован своей работой с Георгием Козинцевым в «Гамлете», отказался сниматься у Бондарчука в «Войне и мире», буквально сбежал со съемок «Анны Карениной», хотя говорят, что у него там были гениальные пробы в роли Каренина. Священный огонь сжигал его изнутри, требуя и не находя выхода.
При внешнем благополучии и всемирном успехе, при всех своих званиях и регалиях народного артиста СССР, в нем продолжал жить блаженный и безумноватый князь Мышкин. Человек без кожи, человек без свойств, притаившийся в своем достоевском подполье, о котором никому ничего не полагалось знать. И эта обезоруживающая улыбка тихопомешанного, и всплески красивейших рук, и, конечно, голос. Великий тенор эпохи. Oн не говорил будничные и скучные слова — он их пел. Особенно этот контраст был заметен, когда он оказывался рядом с мхатовцами в «Сталеварах», «Заседании парткома» или «Так победим!». Даже в «Чайке», где он играл Дорна, он был больше похож на князя Салину, непонятно зачем забредшего в этот левентальевский среднерусский пейзаж из своего сицилийского дворца в «Леопарде». После святых и блаженных в его жизни наступила эпоха аристократов крови. Они давались ему легко. Помню, как в фильме «Первая любовь» по Тургеневу, где Смоктуновский играл отца главного героя, он впервые заговорил по-французски. О, как это было красиво! И это барство манер, и презрительный прищур, и изумительный парижский выговор, выдававший завзятого франкофила. И гордая осанка опытного наездника… Откуда это все у кулацкого сына из далекой деревни под Красноярском? У неудачника, обивавшего пороги столичных театров почти десять лет? Действительно, космический артист!
Мы в этом еще раз убедились, когда он сыграл Иудушку Головлева в спектакле «Господа Головлевы». Он там вновь спустился в свой ад, но уже как бы с другого входа, указанного Салтыковым-Щедриным и срежиссированного Львом Додиным. Это было самое дно русской души, где ненависть к ближнему и страх за нажитое слились воедино в некий невыносимый концентрат, чистый яд. Один глоток, и тебя нет. Весь спектакль — серия смертей, бесконечная череда похорон. Род Головлевых обречен. Они все до одного должны умереть. Останется только один Иудушка. Он и есть Князь Тьмы. И его бесконечные речитативы — это плетение паучьих словесных сетей, где задыхается и гибнет все живое. Великая роль! Как жаль, что встреча с режиссурой Додина у Иннокентия Михайловича была только одна.
Он тяжело пережил раздел МХАТа. Когда их впервые собрал Ефремов у себя в номере в гостинице «Европейская» в Ленинграде, чтобы рассказать о своем плане разделения труппы, реакция у Иннокентия Михайловича была почти как у князя Мышкина на убийство Настасьи Филипповны («Ты хотел ее убить перед свадьбой ножом, вот этим ножичком?») Отчаяние и ужас. «Олег, пощади! Мы же все пенсионеры». Но смирился. И оставался с Ефремовым до конца.
Мне рассказывала о Смоктуновском Алла Сергеевна Демидова. Она даже книгу о нем написала. Много лет они были соседями в Доме кинематографистов на Икше. Блаженное время! ИМ любил природу. Любил копаться в земле. Привозил семена из разных заграниц. Сажал и ждал, что там потом у него вырастет. Соседи-кинематографисты раздражались и свирепели. Им хотелось обычной травы, привычного поля, и чтобы ничего не бросалось в глаза. А у него то подсолнух вымахает под два метра, то какие-то безумные алые маки расцветут, то заморская лилия, явно не из здешних мест, гордо вознесется над скромным клевером и крапивой. И в этих странных, причудливых растениях, предназначенных для другого сада и другой жизни, ощущалось незримое присутствие Иннокентия Михайловича, его легкая рука, его бесхитростная улыбка, его желание удивить, поразить, восхитить, быть не таким, как все.
Он очень любил свою жену Суламифь Михайловну, с которой он познакомился во время своей службы в Театре имени Ленинского комсомола в 1955 году. Его будущая жена, Суламифь Михайловна (Шломит Хаимовна) Кушнир. работала в пошивочном цехе художницей по костюмам.. Она была его спасительницей, «Соломкой», почти по Мандельштаму. Что был он заботливым и нежным отцом. А его дочь Маша до сих пор во всех своих интервью называет его не иначе, как «наш папочка». Думается, что Иннокентию Михайловичу это было бы очень приятно.
На фотографиях: Иннокентий Михайлович с женой и дочкой и могила Смоктуновского на Новодевичьем кладбище Москвы
*инет




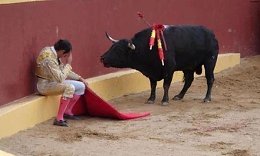
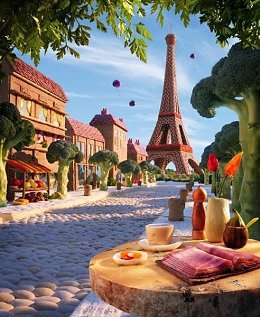
Следующая запись: :) Бируанг — это единственный медведь, который выглядит не как обычный медведь, а больше напоминает ...
Лучшие публикации